Владимир Набоков — писатель из Санкт-Петербурга, родившийся в состоятельной семье. Родители дали ему прекрасное образование, в том числе знание английского и французского. Владимир написал только одну книгу в России. Молодой поэт также получил образование в Англии и после смерти отца переехал в Германию, также жил в Америке и Швейцарии. Небывалую славу Владимиру принёс перевод романа «Лолита», переведённый с английского. В данной подборке собраны цитаты Владимира Набокова.
Лучшая реакция на вражескую критику — улыбнуться и забыть.
Трусы мечты не создают.
Балуйте детей, господа! Никто не знает, что их ожидает в будущем.
… Многоточие изображает, должно быть, следы на цыпочках ушедших слов.
Я знаю больше, чем могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего.
К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники.
— Какое место Вы себе отводите среди писателей ныне живущих и писателей недавнего прошлого?
— Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки, именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос.
— Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки, именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос.
О чем я думаю? О падающих звёздах…
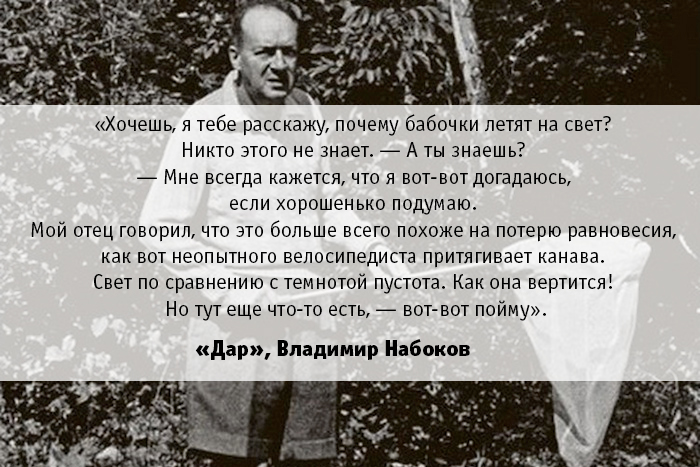
Хоть мы грустим и радуемся розно,
твоё лицо, средь всех прекрасных лиц,
могу узнать по этой пыли звёздной,
оставшейся на кончиках ресниц…
твоё лицо, средь всех прекрасных лиц,
могу узнать по этой пыли звёздной,
оставшейся на кончиках ресниц…
Я американский писатель, рождённый в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию. Моя голова разговаривает по-английски, моё сердце — по-русски, и моё ухо — по-французски.
Жизнь — большой сюрприз. Возможно, смерть окажется ещё большим сюрпризом.
Тайный узор в явной судьбе.
Я не думаю ни на одном языке. Я думаю образами. Я не верю, что люди думают на языках. Думая, они не шевелят губами. Только неграмотный человек определенного типа шевелит губами, читая или размышляя. Нет, я думаю образами, и лишь иногда русская или английская фраза вспенится мозговой волной, но вот, пожалуй, и все.
Моя личная трагедия, которая не может, которая не должна быть чьей-либо еще заботой, состоит в том, что мне пришлось оставить свой родной язык, родное наречие, мой богатый, бесконечно богатый и послушный русский язык ради второсортного английского.
Нет, у Лолиты не было прототипа. Она родилась в моем собственном сознании. Она никогда не существовала. В действительности я не очень хорошо знаю маленьких девочек. Поразмыслив над этим подольше, я прихожу к выводу, что не знаком ни с одной маленькой девочкой. Я иногда встречал их в обществе, но Лолита — частичка моего воображения.
Только амбициозные ничтожества и прекраснодушные посредственности выставляют на обозрение свои черновики.
Я всегда был скверным оратором. Мой словарный запас обитает глубоко в сознании, и чтобы выползти в область физического воплощения, ему необходима бумага. Спонтанное красноречие представляется мне чудом. Я переписал — зачастую по нескольку раз — каждое из своих когда-либо опубликованных слов. Мои карандаши переживают свои ластики.
Я горжусь тем, что никогда не стремился к признанию в обществе. Я никогда в жизни не напивался. Никогда не употреблял мальчишеских слов из трех букв. Никогда не работал в конторе или угольной шахте. Никогда не принадлежал к какому-либо клубу или группе. Я не рыбачу, не готовлю еду, не танцую, не рекомендую книги, не даю автографов, не подписываю декларации, не ем устриц, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков и не принимаю участия в демонстрациях. Ни одно учение или направление никогда не оказывали на меня ни малейшего влияния. Ничто не утомляет меня больше, чем политические романы и литература социальной направленности.
То, что вызывает во мне отвращение, несложно перечислить: тупость, тирания, преступление, жестокость, популярная музыка. Мои пристрастия — самые сильные из известных человеку: сочинительство и ловля бабочек.
Я никогда не вернусь, по той простой причине, что вся Россия, которая мне нужна, всегда со мной: литература, язык и мое собственное русское детство. Я никогда не вернусь. Я никогда не сдамся. И в любом случае гротескная тень полицейского государства не будет рассеяна при моей жизни.
Я люблю шахматы, однако обман в шахматах, так же как и в искусстве, лишь часть игры; это часть комбинации, часть восхитительных возможностей, иллюзий, мысленных перспектив, возможно, перспектив ложных. Мне кажется, что хорошая комбинация должна содержать некий элемент обмана.
Память, сама по себе, является инструментом, одним из многочисленных инструментов, используемых художником; и некоторые воспоминания, скорее интеллектуального, чем эмоционального характера, очень хрупкие и часто теряют аромат реальности, когда романист погружает их в свою книгу, когда их отдают персонажам.
Чем больше вы любите воспоминание, тем более сильным и удивительным оно становится.
Когда я пишу? Всегда, когда мне этого хочется. Я записываю стенографически — иногда на скамейке в саду, или в парке, или в автомобиле, или в постели. Я всегда пишу карандашом на справочных карточках. Когда работа превращается в одно серое пятно написанного и стертого, я все рву и делаю чистую копию. Потом карточки отправляются в библиотеку Конгресса, где они будут недоступны пятьдесят лет.
Все, хоть чего-то стоящие писатели, — юмористы. Я не П. Г. Вудхауз. Я не клоун, но покажите мне великого писателя без чувства юмора.
Учителей у меня не было, но некоторое родство я признаю — например, с Прустом…
Ненавижу общие идеи. Посему ни разу в жизни не подписал ни одного манифеста и не был членом ни единого клуба. Кроме теннисного. И коллекционеров бабочек.
Я не в восторге от «Доктора Живаго»… По сути дела, Пастернак путает советскую революцию с либеральной революцией.
Писатель должен оставаться за пределами создаваемой им условности: не вне собственного творчества, но вне жизни, в ловушки которой он не должен попадаться. Короче говоря, он словно Бог, который везде и нигде. Это формулировка Флобера. Я особенно люблю Флобера. Мне давно известно, что во Франции имеются «стендалисты» и «флоберисты». Сам я предпочитаю Флобера.
Я люблю слова. Да, я хорошо знаю три эти языка, эту troika, три эти лошадки, которых всегда запрягаю в свою повозку. Моей кормилицей и первой нянькой была англичанка. Потом появились гувернантки-француженки. В ту пору я, разумеется, постоянно общался и на русском. Затем было семь или восемь английских гувернанток, учитель-англичанин, а также учитель-швейцарец.
Я горжусь тем, что никогда не стремился к признанию в обществе.
Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость, словно у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли.
Пестуйте детали, божественные детали.
Мой друг, я искренно жалею
того, кто, в тайной слепоте,
пройдя всю длинную аллею,
не мог приметить на листе.
того, кто, в тайной слепоте,
пройдя всю длинную аллею,
не мог приметить на листе.
Ты пришла в мою жизнь — не как приходят в гости (знаешь, «не снимая шляпы»), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги — твоих шагов…
Живи. Не жалуйся, не числи
ни лет минувших, ни планет,
и стройные сольются мысли
в ответ единый: смерти нет.
ни лет минувших, ни планет,
и стройные сольются мысли
в ответ единый: смерти нет.
Истина — одно из немногих русских слов, которое ни с чем не рифмуется.
Нас мало — юных, окрылённых,
не задохнувшихся в пыли,
ещё простых, ещё влюбленных
в улыбку детскую земли.
не задохнувшихся в пыли,
ещё простых, ещё влюбленных
в улыбку детскую земли.
Трёхсложная формула человеческой жизни: невозвратность прошлого, ненасытность настоящего и непредсказуемость будущего.
Мне хотелось выть от нежности, от нежности, которая никак не могла просто и удобно во мне уместиться, а застревала в дверях, громоздкая, с хрупкими углами, ненужная никому.
Разбились облака. Алмазы дождевые,
сверкая, капают то тише, то быстрей
с благоухающих, взволнованных ветвей.
Так Богу на ладонь дни катятся людские,
так — отрывается дыханьем бытия
и звучно падает в пределы неземные
песнь каждая моя…
сверкая, капают то тише, то быстрей
с благоухающих, взволнованных ветвей.
Так Богу на ладонь дни катятся людские,
так — отрывается дыханьем бытия
и звучно падает в пределы неземные
песнь каждая моя…
Русские переводчики с английского – ослы просвещения.
Профессора литературы склонны придумывать такие проблемы, как: «К чему стремился автор?» или еще гаже: «Что хочет книга сказать?» Я же принадлежу к тем писателям, которые, задумав книгу, не имеют другой цели, чем отделаться от нее.
Эволюция смысла в некотором смысле является эволюцией бессмыслицы.
… мне самому трудно, но жду небесной благодати.
Мне так просто и радостно снилось:
ты стояла одна на крыльце
и рукой от зари заслонилась,
а заря у тебя на лице.
ты стояла одна на крыльце
и рукой от зари заслонилась,
а заря у тебя на лице.
Я не знаю, что всё это значит,
почему я проснулся в слезах…
Кто-то в сердце смеётся и плачет,
и стоишь ты на солнце в дверях.
почему я проснулся в слезах…
Кто-то в сердце смеётся и плачет,
и стоишь ты на солнце в дверях.
Знать, что перед сном ты можешь почитать хорошую книгу, — разве это не самое приятное из всех возможных ощущений?
Хоть одну вещь в жизни нужно сделать первоклассно.
А на вопрос: «Какой ваш самый памятный сон?» и Гуревич, и я написали случайно одно и то же: «Россия».
Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья,
И тонут небеса в сирени голубой,
И тонет день в лучах, и тонет сердце в счастье…
Я знаю, я влюблен и рад бродить с тобой.
И тонут небеса в сирени голубой,
И тонет день в лучах, и тонет сердце в счастье…
Я знаю, я влюблен и рад бродить с тобой.
Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волненье нивы.
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь.
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волненье нивы.
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь.
Ночь дана, чтоб думать и курить
и сквозь дым с тобою говорить.
и сквозь дым с тобою говорить.
О чём я думаю? О падающих звёздах…
Гляди, вон там одна, беззвучная, как дух,
алмазною стезёй прорезывает воздух,
и вот уж путь её — потух…
Гляди, вон там одна, беззвучная, как дух,
алмазною стезёй прорезывает воздух,
и вот уж путь её — потух…
Литература — это феномен языка, а не идей.
Одиночество, как положение, исправлению доступно, но как состояние, это — болезнь неизлечимая.
Мы знаем молитвы такие,
что сердцу легко по ночам;
и гордые музы России
незримо сопутствуют нам.
что сердцу легко по ночам;
и гордые музы России
незримо сопутствуют нам.
Будь милосерден. Царств не требуй.
Всем благодарно дорожи.
Молись — безоблачному небу
И василькам в волнистой ржи.
Всем благодарно дорожи.
Молись — безоблачному небу
И василькам в волнистой ржи.
Я хочу, чтобы литература и музыка сошлись как во сне складки жизни.
Живет на остатки от барского воспитания.
В листве березовой, осиновой,
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.
Её душа, как свет необычайный,
как белый блеск за дивными дверьми,
меня влечёт. Войди, художник тайный,
и кисть возьми.
как белый блеск за дивными дверьми,
меня влечёт. Войди, художник тайный,
и кисть возьми.
Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.
Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого… Прощай же. Я доволен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого… Прощай же. Я доволен.
Позволь мечтать… Ты первое страданье
и счастие последнее мое,
я чувствую движенье и дыханье
твоей души… Я чувствую ее,
как дальнее и трепетное пенье…
Позволь мечтать, о, чистая струна,
позволь рыдать и верить в упоенье,
что жизнь, как ты, лишь музыки полна.
и счастие последнее мое,
я чувствую движенье и дыханье
твоей души… Я чувствую ее,
как дальнее и трепетное пенье…
Позволь мечтать, о, чистая струна,
позволь рыдать и верить в упоенье,
что жизнь, как ты, лишь музыки полна.
Вот листопад. Бесплотным перезвоном
сад окроплён. Свод лёгок и высок.
Клён отдаёт со вздохом и поклоном
последний свой узорный образок.
сад окроплён. Свод лёгок и высок.
Клён отдаёт со вздохом и поклоном
последний свой узорный образок.
Всё, что есть у меня, — мой язык.
Бессмертное счастие наше
Россией зовётся в веках.
Мы края не видели краше,
А были во многих краях.
Россией зовётся в веках.
Мы края не видели краше,
А были во многих краях.
Желания мои весьма скромны. Портреты главы государства не должны превышать размер почтовой марки.
Цветет миндаль на перекрестке,
Мерцает дымка над горой,
Бегут серебряные блестки
По глади моря голубой.
Щебечут птицы вдохновенней,
Вечнозеленый ярче лист.
Блажен, кто в этот день весенний
Воскликнет искренно: «Я чист!»
Мерцает дымка над горой,
Бегут серебряные блестки
По глади моря голубой.
Щебечут птицы вдохновенней,
Вечнозеленый ярче лист.
Блажен, кто в этот день весенний
Воскликнет искренно: «Я чист!»
Тайный узор в явной судьбе.
Я горжусь тем, что никогда не стремился к признанию в обществе.
Истина — одно из немногих русских слов, которое ни с чем не рифмуется.
Эволюция смысла в некотором смысле является эволюцией бессмыслицы.
Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, что бы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та.
Убить её, как некоторые ожидали, я, конечно, не мог. Я, видите ли, любил её. Это была любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда.
Когда вернулся, дом был еще безлолитен.
В мире нет ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека.
Этот запах, смешанный со свежестью осеннего парка, Ганин теперь старался опять уловить, но, как известно, память воскрешает все, кроме запахов, и зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним.
Перемена обстановки — традиционное заблуждение, на которое возлагают надежды обреченная любовь и неизлечимая чахотка.
Он разбил моё сердце, ты всего лишь разбил мою жизнь.
Я в достаточной мере горд тем, что знаю кое-что, чтобы скромно признаться, что не знаю всего.
Он был из тех впечатлительных людей, которые краснеют до слез от чужой неловкости.
Он продолжал молчать, и она замолчала тоже, и стала рыться в сумке, мучительно ища в ней тему для разговора…
Если мне бы сказали, что за это меня завтра казнят — я все равно бы на нее смотрел.
Тогда Цинциннат брал себя в руки и, прижав к груди, относил в безопасное место.
О, дайте мне хоть разок посентиментальничать. Я так устал быть циником!
…память воскрешает все, кроме запахов, и зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним.
Рисовать же было приятно. Он нарисовал тещу, и она обиделась; нарисовал в профиль жену, и она сказала, что, если она такая, то нечего было на ней жениться.
«Скажите, кстати, как вы придумали свой псевдоним? Я все хотел узнать?» «Ох, это длинная история», – ответила она с улыбкой. «Нет, вы меня не понимаете. Я хочу узнать. Скажите, вы Толстого читали?» «Толстого?» – переспросила Дорианна Каренина. – «Нет, не помню. А почему вас это интересует?»
«Ты совсем уверена, что не поедешь со мной? Нет ли отдаленной надежды, что поедешь? Только на это ответь мне».
«Как же ты ее достал?» «Простите?» «Говорю: дождь перестал». «Да, кажется». «Я где-то видал эту девочку». «Она моя дочь». «Врешь — не дочь». «Простите?» «Я говорю: роскошная ночь. Где ее мать?» «Умерла».
Меня тошнит от мальчиков и скандальчиков.
Они говорили мало, говорить было слишком темно.
«Какой он, право, странный», — думала Клара, с тем щемящим чувством одиночества, которое всегда овладевает нами, когда человек, нам дорогой, предается мечте, в которой нам нет места.
«Почти все одуванчики уже превратились из солнц в луны».
«Сначала я думал стать психиатром, как многие неудачники; но я был неудачником особым.»
Просто не было взрослых слов для его детских впечатлений.
Как мне страшно. Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто.
« — … Вы как, любите Россию? — Очень. — То-то же. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России — крышка. Там ее никто не любит. »
Должен же существовать образец, если существует корявая копия.
Он чувствовал, как она идет сзади, и боялся шаг замедлить, чтобы счастье не перегнало его.
Никак не удается мне вернуться в свою оболочку и по-старому расположиться в самом себе, — такой там беспорядок: мебель переставлена, лампочка перегорела, прошлое моё разорвано на клочки.
Гений — это негр, который во сне видит снег.
Написанная мысль меньше давит, хотя иная — как раковая опухоль: выразишь, вырежешь, и опять нарастает хуже прежнего.
Меня у меня не отнимет никто.
«Ни один человек не способен сам по себе совершить идеальное преступление; случай, однако, способен на это».
Раздалась зябкая музыка, и кто-то прикрыл дверь, чтобы музыка не простудилась.
Литературу, настоящую литературу, не стоит глотать залпом, как снадобье, полезное для сердца или ума, этого «желудка» души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов, — тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней; ее нужно разгрызать, с наслаждением перекатывая языком во рту — тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат, и раздробленные, размельченные частицы вновь соединятся воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, к которому вы подмешали чуточку собственной крови.
Он был из породы тех людей, которые спрашивают, как вы живёте, только для того, чтобы обстоятельно рассказать, как они сами живут.
В третье свое посещение он твердо решил улыбнуться ей, однако так забилось сердце, что он не попал в такт, промахнулся.
Да, мы ссорились, да, она бывала прегадкой, да, она чинила мне всякие препятствия, но невзирая на ее гримасы, невзирая на грубость жизни, опасность, ужасную безнадежность, я все-таки жил на самой глубине избранного мной рая — рая, небеса которого рдели как адское пламя, — но все-таки рая.
Бывают такие мгновения, когда все становится чудовищным, бездонно-глубоким, когда, кажется, так страшно жить и еще страшнее умереть. И вдруг, пока мчишься так по ночному городу, сквозь слезы глядя на огни и ловя в них дивное ослепительное воспоминание счастья, — женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвенья, — вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу, — голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь.
Психоаналисты манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды.
Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия.
«Почему ты думаешь, что я перестал тобой интересоваться?» «Ну, во-первых, ты меня ещё не поцеловал».
Красота уходит, красоте не успеваешь объяснить, как ее любишь, красоту нельзя удержать, и в этом — единственная печаль мира.
Мои книги, мое солнце – что мне еще нужно?
Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя…
Густое счастье первой любви неповторимо.
Странно, что вот деньги есть, а мечта остается мечтой.
Лужиным он занимался только поскольку это был феномен, — явление странное, несколько уродливое, но обаятельное, как кривые ноги таксы.
Человек первым делом должен жрать, да!
Чиновник был обидчивый и замученный, и ел диабетический хлебец, и, вероятно, получал мизерное жалованье, был женат, и у ребенка была сыпь по всему телу. Бумажке, которой у них не было и которую следовало достать, он придавал значение космическое, весь мир держался на этой бумажке и безнадежно рассыпался в прах, если человек был ее лишен. Мало того: оказывалось, что Лужины получить ее не могли, прежде чем не истекут чудовищные сроки, тысячелетия отчаяния и пустоты, и одним только писанием прошений было позволено облегчать себе эту мировую скорбь.
Кража — лучший комплимент, который можно сделать вещи.
Я опустился в ад за оброненной салфеткой.
Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы.
Снова и снова перелистываю эти жалкие воспоминания и все допытываюсь у самого себя, не оттуда ли, не из блеска ли того далекого лета пошла трещина через всю мою жизнь.
Иногда эти русские говорят очень дельные вещи. Не оттого ли, что зимой вообще лучше думается?
Знаешь, ужасно в смерти то, что человек совсем предоставлен самому себе.
Весь мир был мокр от слез.
Конверт был крепко надушен, и Ганин мельком подумал, что надушить письмо то же, что опрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу.
— Мы сейчас одни, а на дворе дождь, — продолжал м-сье Пьер. — Такая погода благоприятствует задушевным шушуканиям
Кто может сказать, какие глубокие обиды мы наносим собаке тем, что прекращаем возню!
Макароны растут в Италии. Когда они еще маленькие, их зовут вермишелью. Это значит: Мишины червяки.
Мы живем не только в мире идей, но в мире вещей. Слова без практического опыта не имеют смысла.
То, что не названо, — не существует. К сожалению, все было названо.
И вместо всяких французских Билитис, петербургских белых, гитарных ночей, грешных сонетов в пять дактилических строф, он ухитрился найти в этой даме…совсем другое.
Бывают такие мгновения, когда все становится чудовищным, бездонно-глубоким, когда, кажется, так страшно жить и еще страшнее умереть.
Что есть воспоминание, как не душа впечатления?
За все время совместной жизни с Лужиным он безостановочно поощрял, Развивал его дар, ни минуты не заботясь о Лужине-человеке, которого, казалось, не только Валентинов, но и сама жизнь проглядела.
«Я чувствовал, будто мое сердце бьется всюду одновременно».
Там я оттяну крайнюю плоть пистолета и упьюсь оргазмом спускового крючка.
Человека лишнего, человека, широкой, спокойной спиной мешающего нам протиснуться к вокзальной кассе или к прилавку, мы ненавидим куда тяжелее и яростнее, чем откровенного врага, откровенно напакостившего нам.
День умирал, я уже катил по шоссе под мелким дождиком, и, как бы деятельно ни ездили два близнеца по смотровому стеклу, они не могли справиться с моими слезами.
Блещи, пока блещется
Но до самого пленительного в ней никто еще не мог докопаться: это была таинственная способность души воспринимать в жизни только то, что когда-то привлекало и мучило в детстве, в ту пору, когда нюх у души безошибочен; выискивать забавное и трогательное; постоянно ощущать нестерпимую, нежную жалость к существу, живущему беспомощно и несчастно, чувствовать за тысячу верст, как в какой-нибудь Сицилии грубо колотят тонконогого осленка с мохнатым брюхом. Когда же и в самом деле она встречала обижаемое существо, то было чувство легендарного затмения, когда наступает необъяснимая ночь, и летит пепел, и на стенах выступает кровь, — и казалось, что если сейчас — вот сейчас — не помочь, не пресечь чужой муки, объяснить существование которой в таком располагающем к счастью мире нет никакой возможности, сама она задохнется, умрет, не выдержит сердце. И потому жила она в постоянном тайном волнении, постоянно предчувствуя новое увлечение или новую жалость, и про нее говорили, что она обожает собак и всегда готова одолжить денег, — и слушая мелкую молву, она чувствовала себя, как в детстве, во время той игры, когда уходишь из комнаты, а другие выдумывают про тебя разнообразные мнения. И среди играющих, среди тех, к которым она выходила после пребывания в соседней комнате (где сидишь, ожидая, что тебя позовут, и честно напеваешь что-нибудь, чтобы только не подслушать, или открываешь случайную книгу, и, как освобожденная пружина, выскакивает кусочек романа, конец непонятного разговора), среди этих людей, мнение которых требовалось угадать, был теперь человек, довольно молчаливый, тяжелый на подъем, совершенно неизвестно, что о ней думающий.
Какое блаженство стоять на ветру рядом со смеющейся растрепанной женщиной: яркую юбку то швырял, то прижимал ей к коленям ветер, наполнявший когда-то парус Улисса…
Мать не раз пробовала узнать у дочери кое-какие подробности брака и пытливо спрашивала; «Ты беременна? Я уверена, что уже беременна». «Да что ты,— отвечала дочь,— я давно родила».
Книги, которые вы любите, нужно читать, вздрагивая и задыхаясь от восторга.
У меня сердце чешется, — ужасное ощущение.
Я изменил ей с одним из Лолитиных белых носочков.
Есть люди, которые живут именно глазами, зрением, — все остальные чувства только послушная свита этого короля чувств.
И все-таки: я тебя люблю. Я тебя безысходно, гибельно, непоправимо… Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя…
Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна. П. Смирновский. Учебник русской грамматики.
Я некрасив, неинтересен. У меня нет особенных дарований. Я даже не богат. Но я предлагаю Вам все, что имею, до последнего кровяного шарика, до последней слезинки, все решительно. И поверьте, это больше того, что может предложить Вам любой гений, потому что гению нужно столько держать про запас, что он не может, как я, предложить Вам всего себя. Быть может, я не добьюсь счастья, но я знаю, что сделаю все, чтобы Вы были счастливы..
…Мысль была так хороша, так дерзновенна, что даже сердце запнулось…
Кто бреется, тот каждое утро молодеет на день.
— Слава Богу,— ты это понял,— сказала Марта.— Видишь ли, друг мой, мечты нельзя отдавать в банк под проценты. Это бумаги неверные; да и проценты -– пустяшные.
Мне совестно, что я боюсь, а боюсь я дико, — страх, не останавливаясь ни на минуту, несётся с грозным шумом сквозь меня, как поток, и тело дрожит, как мост над водопадом, и нужно очень громко говорить, чтобы за шумом себя услышать.
В России цензурное ведомство возникло раньше литературы.
«Неприличное» бывает зачастую равнозначаще «необычному».
То щемящее чувство одиночество, которое всегда овладевает нами, когда человек, нам дорогой, предается мечте, в которой нам нет места
Задолго до нашей встречи у нас бывали одинаковые сны.
Ах, наша с тобой жизнь была ужасна, ужасна, и не этим расшевелю, я очень старался вначале, но ты знаешь — темп был у нас разный, и я сразу отстал. Скажи мне, сколько рук мяло мякоть, которой обросла так щедро твоя твердая, гордая, горькая, маленькая душа? Да, снова, как привидение, я возвращаюсь к твоим первым изменам и, воя, гремя цепями, плыву сквозь них. Поцелуи, которые я подглядел. Поцелуи ваши, которые больше всего походили на какое-то питание, сосредоточенное, неопрятное и шумное. Или когда ты, жмурясь, пожирала прыщущий персик и потом, кончив, но еще глотая, еще с полным ртом, канибалка, топырила пальцы, блуждал осоловелый взгляд, лоснились воспаленные губы, дрожал подбородок, весь в каплях мутного сока сползавших на оголенную грудь, между тем как приап, питавший тебя, внезапно поворачивался с судорожным проклятием, согнутой спиной ко мне, вошедшему в комнату некстати. «Марфиньке всякие фрукты полезны», — с какой-то сладко-хлюпающей сыростью в горле говорила ты, собираясь вся в одну сырую, сладкую, проклятую складочку, — и если я опять возвращаюсь ко всему этому, так для того, чтобы отделаться, выделить из себя, очиститься, — и еще для того, чтобы ты знала, чтобы ты знала…
Смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Меня же оставляют в том неведении, которое могут выносить только живущие на воле.
Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе.
Жизнь — серия комических номеров.
Я так мерзко обожаю её!
Но она ловко положила ему на стеклянную тарелочку чудесного малинового варенья, и сразу подействовала эта клейкая, ослепительно-красная сладость, которая зернистым огнем переливалась на языке, душистым сахаром облипала зубы
Духовное и телесное сливалось в нашей любви в такой совершенной мере, какая и не снилась нынешним на всё просто смотрящим подросткам с их нехитрыми чувствами и штампованными мозгами.
Чем бы ты ни была, где бы ты ни была, в минус-пространстве или в плюс-времени, прости мне все это.
Жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями.
Неужели я жила эти три года без тебя и было чем жить и для чего жить?
«Я часто замечал, что мы склонны наделять наших друзей той устойчивостью свойств и судьбы, которую приобретают литературные герои в уме у читателя. <…> Через какую бы эволюцию тот или другой известный персонаж ни прошел между эпиграфом и концом книги, его судьба установлена в наших мыслях о нем; и точно так же мы ожидаем, чтобы наши приятели следовали той или другой логической и общепринятой программе, нами для них предначертанной. Так, Икс никогда не сочинит того бессмертного музыкального произведения, которое так резко противоречило бы посредственным симфониям, к которым он нас приучил. Игрек никогда не совершит убийства. Ни при каких обстоятельствах Зет нас не предаст. У нас все это распределено по графам, и чем реже мы видимся с данным лицом, тем приятнее убеждаться, при всяком упоминании о нем, в том, как послушно он подчиняется нашему представлению о нем. Всякое отклонение от выработанных нами судеб кажется нам не только ненормальным, но и нечестным. Мы бы предпочли никогда прежде не знать соседа — отставного торговца сосисками, — если бы оказалось, что он только что выпустил сборник стихов, не превзойденных никем в этом веке.»
Физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение.
«Красота уходит, красоте не успеваешь объяснить, как ее любишь, красоту нельзя удержать, и в этом – единственная печаль мира. Но какая печаль? Не удержать этой скользящей, тающей красоты никакими молитвами, никакими заклинаниями, как нельзя удержать бледнеющую радугу или падучую звезду. Не нужно думать об этом, нужно на время ничего не видеть, ничего не слышать…»
…однако фантазия моя разыгралась, и разыгралась нехорошо, увесисто, как пожилая, но всё ещё кокетливая дама, выпившая лишнее.
И еще я думаю о том, что мне тогда казалось иногда, что я несчастна, но теперь я знаю, что я была всегда счастлива, что это несчастие было одной из красок счастья.
Смертье до смерти, — потом будет поздно.
А ведь с раннего детства мне снились сны… В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям предметов…проще говоря: в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни. К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемое снами есть полудействительность, обещание действительности, ее преддверие и дуновение, то есть что они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, — больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая, в свой черед, есть полусон, дурная дремота, куда извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания… Но как я боюсь проснуться!
…и я глядел, и не мог наглядеться, и знал — столь же твердо, как то, что умру, — что я люблю ее больше всего, что когда-либо видел или мог вообразить на этом свете, или мечтал увидеть на том. От нее оставалось лишь легчайшее фиалковое веяние, листопадное эхо той нимфетки, на которую я наваливался с такими криками в прошлом.

Хочу поделиться с вами некоторыми своими умозаключениями. Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров — и все то, что сходит у нас за жизнь. В теории — хотелось бы проснуться. Но проснуться я не могу без посторонней помощи, а этой помощи безумно боюсь, да и душа моя обленилась, привыкла к своим тесным пеленам.
Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом.
Но я все прощу, если это ты.
От этих несовершенных встреч мельчает, протирается любовь. Всякая любовь требует уединенья, прикрытия, приюта, а у них приюта не было. *** Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви, России — крышка. Там ее никто не любит.
Любовь к матери была его первой несчастной любовью.
Убить ее, как некоторые ожидали, я, конечно, не мог. Я, видите ли, любил ее. Это была любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда.
В соседней комнате мама Лужина уговаривала пустоту выпить с ней какао.
Литература родилась не в тот день, когда из неандертальской долины с криком: «Волк, волк!» – выбежал мальчик, а следом и сам серый волк, дышащий ему в затылок; литература родилась в тот день, когда мальчик прибежал с криком: «Волк, волк!», а волка за ним и не было. В конце концов бедняжку из-за его любви к вранью сожрала-таки реальная бестия, но для нас это дело второстепенное. Важно совсем другое. Глядите: между настоящим волком и волком в небылице что-то мерцает и переливается. Этот мерцающий промежуток, эта призма и есть литература.
Она моя, моя, ключ в кулаке, кулак в кармане, она моя.
Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен, — но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего.
Когда произносишь «лимон», делаешь поневоле длинное лицо, а когда говоришь «апельсин», — широко улыбаешься.
Ему нравилось помогать жизни окарикатуриться.
Нельзя строить жизнь на песке несчастья <..> Это грех против жизни.
Всякое будущее неизвестно, — но иногда оно приобретает особую туманность, словно на подмогу естественной скрытности судьбы приходит какая-то другая сила, распространяющая этот упругий туман, от которого отскакивает мысль.
В этот странный, осторожно-темнеющий вечер, в липовом сумраке широкого городского парка, на каменной плите, вбитой в мох, Ганин, за один недолгий час, полюбил ее острее прежнего и разлюбил ее как будто навсегда.
«Представь себе, что берешь и держишь пинг-понговый мячик, яблоко, липкий финик, новый пушисто-фланелевый теннисный мяч, горячую картофелину, ледяной кубик, котенка, подкову, карманный фонарь цилиндрической формы. Перебирай концами пальцев следующие воображаемые вещи: хлебный мякиш, резинку, ноющий висок близкого человека, образец бархата, розовый лепесток. Ты — слепая девочка. Ощупай, начиная с лица, следующих людей: Греческого юношу; Сирано-де-Бержерака; Деда Мороза; младенца; хохочущего от щекотки фавна; спящего незнакомца; собственного отца».
…и было уже за полдень, когда совсем проснулся — и, как всегда, подумал прежде всего о том, что конец еще не сегодня, а ведь могло быть и сегодня, как может и завтра быть, но завтра еще далеко.
«Как, вы не знаете, что я теперь снимаюсь? Как же, как же. Большие роли, и во всю морду».
Пять-шесть таких улиц, и чем дальше от моря, тем дешевле, словно море – сцена, а ряды домов – ряды в театре, кресла, стулья, а там уж и стоячие места.
Любовь к ближнему, не котируется на бирже современных отношений.
Парадоксально, но единственно реальные, аутентичные миры – те, что кажутся нам необычными. Когда созданные мною фантазии сделают образцом для подражания, они тоже станут предметом обыденной усредненной реальности, которая, в свою очередь, тоже будет фальшивой, но уже в новом контексте, которого мы пока не можем себе представить. Обыденная реальность начинает разлагаться, от нее исходит зловоние, как только художник перестает своим творчеством одушевлять субъективно осознанный им материал.
Парадоксально, но единственно реальные, аутентичные миры – те, что кажутся нам необычными. Когда созданные мною фантазии сделают образцом для подражания, они тоже станут предметом обыденной усредненной реальности, которая, в свою очередь, тоже будет фальшивой, но уже в новом контексте, которого мы пока не можем себе представить. Обыденная реальность начинает разлагаться, от нее исходит зловоние, как только художник перестает своим творчеством одушевлять субъективно осознанный им материал.
Упрекаю природу лишь в одном — в том,что я не мог, как хотелось бы, вывернуть мою Лолиту наизнанку и приложить жадные губы к молодой маточке, неизвестному сердцу, перламутровой печени, морскому винограду легких, чете миловидных почек!
В ней было очень мало вещей и очень много беспорядка.
Еще ребенком, еще живя в канареечно-желтом, большом, холодном доме, где меня и сотни других детей готовили к благополучному небытию взрослых истуканов, в которые ровесники мои без труда, без боли все и превратились; еще тогда, в проклятые те дни, среди тряпичных книг, и ярко расписанных пособий, и проникающих душу сквозняков, — я знал без узнавания, я знал без удивления, я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно, — знал, пожалуй, ещё яснее, чем знаю сейчас. Ибо замаяла меня жизнь: постоянный трепет, утайка знания, притворство, страх, болезненное усилие всех нервов — не сдать, не прозвенеть… и до сих пор у меня еще болит то место памяти, где запечаталось самое начало этого усилия, то есть первый раз, когда я понял, что вещи, казавшиеся мне естественными, на самом деле запретны, невозможны, что всякий помысел о них преступен.
Бывает, что в течение долгого времени тебе обещается большая удача, в которую с самого начала не веришь, так она не похожа на прочие подношения судьбы, а если порой и думаешь о ней, то как бы со снисхождением к фантазии, — но когда наконец, в очень будничный день с западным ветром, приходит известие, просто, мгновенно и окончательно уничтожающее всякую надежду на нее, то вдруг с удивлением понимаешь, что, хоть и не верил, а все это время жил ею, не сознавая постоянного, домашнего присутствия мечты, давно ставшей упитанной и самостоятельной, так что теперь никак не вытолкнешь ее из жизни, не сделав в жизни дыры.
Я не хочу, чтобы меня посещали серые, скучные сны австрийского маньяка со старым зонтиком. Считаю также, что фрейдистская теория ведет к серьезным этическим последствиям, например, когда грязному убийце с мозгами солитера смягчают приговор только потому, что в детстве его слишком много – или слишком мало – порола мать, причем и тот и другой «довод» срабатывает.
Когда ко мне обращаются за советами, я всегда говорю: господа, побольше изобретательности.
То, что не названо, – не существует.
Рай — это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи!
Аккуратность украшает жизнь одинокого человека.
Одиночество, как положение, исправлению доступно, но как состояние, это — болезнь неизлечимая.
«Таким образом из пустяка, из случайной встречи в глупейшем городке, выросло что-то облачное и непоправимое. Меж тем, не было на свете такого электрического пылесоса, который мог бы мгновенно вычистить все комнаты мозга».
В каждом человеке в той или иной степени противодействуют две силы: потребность в уединении и жажда общения с людьми.
Она стремительно им увлеклась. Поэт рассеянно обручился с нею, а в первый же день после свадьбы объявил с печальной улыбкой, что стихов он писать не умеет, и тут же, во время разговора, превратил старый будильник в никелевый хронометр, а хронометр в крошечные золотые часики, которые Нора и носила с тех пор на кисти.
Изоляция означает свободу и открытия. На необитаемом острове может быть интереснее, чем в городе, но мое одиночество вообще-то не имеет особого значения. Это следствие стечения обстоятельств – старых кораблекрушений, капризных приливов, – никак не связанное с темпераментом. Как частное лицо, я добродушный, дружелюбный, веселый, откровенный, открытый человек, нетерпимый к фальшивому искусству.
Диалог может быть превосходен, если стилизован драматически или комически или же художественно слит с описательной прозой; иными словами, если является свойством стиля или композиции данного произведения. Если же нет, тогда он не более чем механически воспроизведенный текст, бесформенная речь, заполняющая страницу за страницей, над которой глаз скользит, точно летающая тарелка над засушливой пустыней.
Что вы можете сказать о вашем отчуждении от современной России? Я испытываю глубокое недоверие к разрекламированной фальшивой оттепели; меня не оставляет сознание того, что совершенные там беззакония невозможно искупить. Я чувствую полнейшее равнодушие ко всему, что движет сегодняшним советским патриотом; и глубокое удовлетворение от того, что уже в 1918 году я распознал meshchanstvo (мелкобуржуазное самодовольство, филистерскую сущность) ленинизма.
Но откуда, – еще тогда, в первые дни, – откуда злость и упрямство, которые вдруг… Мягкая, смешная, теплая, и вдруг… Сначала мне казалось, что это она нарочно: показывает, что ли, как другая на ее месте остервенела бы, заупрямилась. Как же я был удивлен, когда оказалось, что это она сама и есть!
Время шло в арифметической прогрессии: восемь.
Есть люди, которые живут глазами, зрением, — все остальные чувства только послушная свита этого короля чувств.
А на остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов — пятно на платформе, вишневая косточка, окурок, — и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который однако сейчас он видит до бессмертности ясно; или еще, глядя на кучку детей, ожидающих поезда, он изо всех сил старался высмотреть хоть одну замечательную судьбу — в форме скрипки или короны, пропеллера или лиры, — и досматривался до того, что вся эта компания деревенских школьников являлась ему как на старом снимке, воспроизведенном теперь с белым крестиком над лицом крайнего мальчика: детство героя.
Читал он внимательно, с удовольствием. Вне солнцем освещённой страницы не существовало сейчас ничего. Он перевернул страницу, и весь мир жадно, как игривая собака, ожидавший это мгновение, метнулся к нему светлым прыжком, — но, ласково отбросив его, Драйер опять замкнулся в книгу.
Стрелка на стене указывала через улицу на мастерскую фотографа, где в двадцать минут можно было получить свое жалкое изображение: полдюжины одинаковых физиономий, из которых одна наклеивалась на желтый лист паспорта, еще одна поступала в полицейский архив, а остальные, вероятно, расходились по частным коллекциям чиновников.
Говорили, единственное, что он в мире любит, это — Россия. Многие не понимали, почему он там не остался. На вопросы такого рода Мун неизменно отвечал: «Справьтесь у Робертсона — (это был востоковед), — почему он не остался в Вавилоне». Возражали вполне резонно, что Вавилона уже нет. Мун кивал, тихо и хитро улыбаясь.
…Он только пожал плечами и подумал о том, как грустно жить, как трудно исполнять долг, не встречаться, не звонить, не ходить туда, куда тянет неудержимо… а тут еще с сыном… эти странности… это упрямство… Грусть, грусть, да и только.
И, среди этого холодного беспорядка, сидел замысловатейший человек, человек, занимавшийся призрачным искусством, и она старалась остановиться, ухватиться за все его недостатки и странности, сказать себе раз навсегда, что этот человек ей не пара, – и в то же время совершенно отчетливо беспокоилась о том, как это он будет держаться в церкви, как он будет выглядеть во фраке.
Самая лучшая часть биографии писателя – не пересказ его похождений, а история его стиля.
Страшно, когда явь вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, легкий и безответственный, начинает вдруг остывать явью.
Цель критики – сказать что-нибудь о книге, которую критик читал или не читал. Критика может быть поучительной в том смысле, что она дает читателям и автору книги некоторое представление либо об уме критика, либо о его искренности, либо и о том и о другом.
Языковая ткань Шекспира – высшее, что создано во всей мировой поэзии, и в сравнении с этим его собственно драматургические достижения отступают далеко на второй план. Не в них сила Шекспира, а в его метафоре.
Могу дать начинающему критику такие советы: научиться распознавать пошлость. Помнить, что посредственность преуспевает за счет «идей». Остерегаться модных проповедников. Проверять, не является ли обнаруженный символ собственным следом на песке. Избегать аллегорий. Во всем ставить «как» превыше «что», не допуская, чтобы это переходило в «ну и что?». Доверять этому внезапному ознобу, когда дыбом встают волоски на коже, не хватаясь тут же за Фрейда. Остальное – дело таланта.
Думаю, дело тут в любви: чем больше вы любите воспоминание, тем более сильным и удивительным оно становится.
У меня был приятель, юноша, полный жизни, с лицом ангела и с мускулами пантеры, — он порезался, откупоривая бутылку, и через несколько дней умер. Ничего глупее этой смерти нельзя было себе представить, но вместе с тем… вместе с тем, — да, странно сказать, но это так: было бы менее художественно, доживи он до старости…
Чехов писал печальные книги для веселых людей; я хочу сказать, что только читатель с чувством юмора сумеет по-настоящему ощутить их печаль.
Хорошие игроки никогда много не думают.
Опять же: несчастная маршрутная мысль, с которой давно свыкся человеческий разум (жизнь в виде некоего пути) есть глупая иллюзия: мы никуда не идём, мы сидим дома. Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна — зеркало: дверь до поры до времени затворена; но воздух входит сквозь щели.
Опять же: несчастная маршрутная мысль, с которой давно свыкся человеческий разум (жизнь в виде некоего пути) есть глупая иллюзия: мы никуда не идём, мы сидим дома. Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна — зеркало: дверь до поры до времени затворена; но воздух входит сквозь щели.
Что за диковинная штука — жизнь! Мы норовим восстановить против себя как раз те силы рока, которые мы хотели бы задобрить.
А на следующий день, в саду, где были гроты, фонтаны и глиняные карлы, он подошел к ней и густым, грустным голосом стал благодарить за платок, за монету (и с той поры он смутно, почти бессознательно все следил, не роняет ли она чего-нибудь, — как будто стараясь восстановить какую-то тайную симметрию). «Не за что, не за что», — ответила она и много еще произнесла таких слов, — бедные родственники настоящих слов, — и сколько их, этих маленьких сорных слов, произносимых скороговоркой, временно заполняющих пустоту. Употребляя такие слова и чувствуя их мелкую суетность, она спросила, нравится ли ему курорт, надолго ли он тут, пьет ли воду. Он отвечал, что нравится, что надолго, что воду пьет. Потом она спросила, сознавая глупость вопроса, но не в силах остановиться, — давно ли он играет в шахматы. Он ничего не ответил, отвернулся, и она так смутилась, что стала быстро перечислять все метеорологические приметы вчерашнего, сегодняшнего, завтрашнего дня. Он продолжал молчать, и она замолчала тоже, и стала рыться в сумке, мучительно ища в ней тему для разговора и находя только сломанный гребешок.
Горе тому воображению, которому юмор не сопутствует.
Баба в кумачовом платке до бровей ела яблоко, и её чёрная тень на заборе ела яблоко побольше.
Он думал о том, что стар, одинок, что у него очень мало радостей и что старики должны за радости платить.
Спектакль еще не начинался, в холодном вестибюле потрескивал русский разговор.
За окном проплывает, как рыба в аквариуме, насквозь освещенный трамвай.
Фред думал о вчерашнем. Странно спутывались смеющиеся голоса акробаток и прикосновения душистых холодных рук госпожи Шок. Его сначала обидели, потом приласкали, а был он очень привязчивый, очень пылкий карлик. Помечтал он о том, что когда-нибудь спасет Нору от сильного грубого человека, вроде того француза в белом трико.
<…>подлинное искусство имеет дело не с родом, даже не с видами, а с отклонением от нормы, проявившимся в особи данного вида.
В искусстве стиль художника в основе своей так же призрачен и органичен, как фата-моргана.
Настанет день, когда умрет последний человек, помнящий меня. Быть может, случайный рассказ обо мне, простой анекдот, где я фигурирую, перейдет от него к его сыну или внуку, — так что еще будет некоторое время мелькать мое имя, мой призрак. А потом конец.
Хулиганы никогда не бывают революционными, они всегда реакционны. Именно среди молодежи можно найти самых больших конформистов и филистеров, например хиппи с их групповыми бородами и групповыми протестами. Демонстрантов в американских университетах так же мало заботит образование, как английских футбольных болельщиков, громящих станции метро, заботит футбол. Все они принадлежат к семейству тупых хулиганов с вкраплениями умных жуликов.
Сатира – поучение, пародия – игра.
Как вы оцениваете возможности жанра литературной биографии? Писать такие вещи веселее, чем читать. Иногда это превращается в нечто подобное двойной погоне: сперва преследует свой предмет биограф, продираясь сквозь дневники и письма, увязая в трясине домыслов, потом вымазанного в грязи биографа начинает преследовать соперничающий авторитет.
Память, сама по себе, является инструментом, одним из многочисленных инструментов, используемых художником; и некоторые воспоминания, скорее интеллектуального, чем эмоционального характера, очень хрупкие и часто теряют аромат реальности, когда романист погружает их в свою книгу, когда их отдают персонажам.
« Вы еще скажите, что все японцы между собою схожи. Вы забываете, синьор, что художник видит именно разницу. Сходство видит профан. »
Иные люди ( к числу которых принадлежу и я) терпеть не могут счастливых развязок. Мы чувствуем себя обманутыми. Зло в порядке вещей. Судьбы не переломишь.
Не было на свете такой мази, от которой стерлось бы воспоминание.
Вообрази меня! Меня не будет, если ты меня не вообразишь.
Все равно, даже если ее глаза потускнеют,[…] даже тогда я буду с ума сходить от нежности при одном виде ее дорогого лица…
Знаете, я, по правде, не сильно ее разглядывал, ведь, в конце концов, все барышни метят в красавицы. Не будем злы.
Он играл в шахматы с юношеских лет, но редко и безалаберно, со случайными игроками, — на волжском пароходе в погожий вечер, в иностранной санатории, где некогда умирал брат; на даче с сельским доктором, нелюдимым человеком, который периодически переставал к ним заглядывать, — и все эти случайные партии, полные зевков и бесплодных раздумий, были для него небрежным отдохновением или просто способом пристойно молчать в обществе человека, с которым беседа не клеится, — короткие, незамысловатые партии, не отмеченные ни самолюбием, ни вдохновением, и которые он всегда одинаково начинал, мало обращая внимания на ходы противника.
Её улыбка сводилась к вопросительному вскидыванию одной брови
Я понял, что единственное счастье в этом мире, это наблюдать, соглядатальствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, не делать никаких выводов, — просто глазеть. Клянусь, что это счастье… Я счастлив тем, что могу глядеть на себя, ибо всякий человек занятен — право же занятен!..
«В моей жизни есть другой человек». Незачем говорить, что мужу не могут особенно понравиться такие слова. Меня, признаюсь, они ошеломили. Прибить ее тут же на улице — как поступил бы честный мещанин — было нельзя. Годы затаенных страданий меня научили самообладанию сверхчеловеческому.
Некоторое время она смотрела на меня, будто только сейчас осознав неслыханный и, пожалуй, довольно нудный, сложный и никому не нужный факт, что сидевший рядом с ней сорокалетний, чуждый всему, худой, нарядный, хрупкий, слабого здоровья джентльмен в бархатном пиджаке когда-то знал и боготворил каждую пору, каждый зачаточный волосок ее детского тела. В ее бледно-серых глазах, за раскосыми стеклами незнакомых очков, наш беднекький роман был на мгновение отражен, взвешен и отвергнут, как скучный вечер в гостях, как в пасмурный день пикник, на который явились только самые неинтересные люди, как надоевшее упражнение, как корка засохшей грязи, приставшей к ее детству.
Изюминка, пуанта жизни заключается иногда именно в смерти.
Окружающие понимали друг друга с полуслова, — ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями.Узник! В этот торжественный час, когда все взоры направлены на тебя, и судьи твои ликуют, и ты готовишься к тем непроизвольным телодвижениям, которые непосредственно следуют за отсечением головы, я обращаюсь к тебе с напутственным словом. Мне выпало на долю, – и этого я не забуду никогда, – обставить твое житье в темнице всеми теми многочисленными удобствами, которые дозволяет закон. Посему я счастлив буду уделить всевозможное внимание всякому изъявлению твоей благодарности, но желательно в письменной форме и на одной стороне листа.
Мои открытия, мои интересы, мои особые острова бесконечно недоступны раздраженным читателям.
Искажение образа, который мы вспоминаем, не только усиливает его красоту благодаря дополнительному преломлению, но служит толчком к поиску связей с другими эпизодами прошлого, теми, что были раньше или позже.
Я страстный мемуарист с отвратительной памятью: рассеянный хранитель воспоминаний сонливого короля. С абсолютной ясностью я воскрешаю пейзажи, жесты, интонации, миллионы чувственных деталей, но имена и числа погружаются в забвение с абсурдной безоглядностью маленьких слепцов, цепочкой бредущих по пирсу.
Образ возникает из ассоциаций, а ассоциации поставляет и питает память. И когда мы говорим о каком-нибудь ярком воспоминании, то это комплимент не нашей способности удерживать нечто в памяти, а таинственной прозорливости Мнемозины, закладывающей в нашу память все то, что творческое воображение потом использует в сочетании с вымыслом и другими позднейшими воспоминаниями. В этом смысле и память, и воображение упраздняют время.
Я думаю, критика в высшей степени полезна, когда специалист указывает мне на мои грамматические ошибки.
Что вы думаете об американской литературе с 1945 года? Ну, за одно поколение редко появляется более двух или трех действительно первоклассных писателей. Думаю, что Сэлинджер и Апдайк – самые тонкие из пишущих в последние годы художников.
Вы можете, так сказать, подбираться к реальности все ближе и ближе; но вы никогда не подойдете достаточно близко, так как реальность – бесконечная последовательность шагов, уровней восприятия, ложных днищ, а потому она неутолима, недостижима. Вы можете узнавать о предмете все больше и больше, но вы никогда не узнаете о нем всего: это безнадежно.
Реальность – очень субъективная штука. Я могу определить ее только как некое постепенное накопление информации и как специализацию
Утешение, впрочем, было фальшивое, литераторское, суть дела была важнее и отвратительнее: оказывалось, что жизнь мстит тому, кто пытается хоть на мгновение ее запечатлеть, – она останавливается, вульгарным жестом уткнув руки в бока, словно говорит: «пожалуйста, любуйтесь, вот я какая, не пеняйте на меня, если это больно и противно».
Если скрипичная струна может страдать, я страдал, как струна.
Предлагаю похерить игру в поцелуи и пойти жрать.
Все чеховские рассказы — это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды.
Пускай не справляюсь с ознобом и так далее, — это ничего. Всадник не отвечает за дрожь коня.
В этом курсе я попытался раскрыть механизм чудесных игрушек – литературных шедевров. Я попытался сделать из вас хороших читателей, которые читают книги не из детского желания отождествиться с героем, не из подросткового желания узнать жизнь и не из университетского желания поиграть обобщениями. Я попытался научить вас чтению, открывающему форму книги, ее образы, ее искусство. Я попытался научить вас трепету эстетического удовольствия, сочувствию не к персонажам книги, но к ее автору – к радостям и тупикам его труда. Наши беседы велись не вокруг книг, не по их поводу: мы проникали в самое средоточие шедевра, к его бьющемуся сердцу.
Она явно принадлежала к числу тех женщин, чьи отполированные слова могут отразить дамский кружок чтения или дамский кружок бриджа, но отразить душу не могут.
Подумать только, что выбирая между сосиской и Гумбертом – она неизменно и беспощадно брала в рот первое.
Её внутренний облик мне представлялся до противного шаблонным: сладкая, знойная какофония джаза, фольклорные кадрили, мороженое под шоколадно-тянучковым соусом, кинокомедии с песенками, киножурнальчики
Несмотря на наши ссоры, не взирая на все преграды, её гримасы, опасность, ужасную безнадёжность всего, — я всё-таки жил на самой глубине избранного мной рая. Рая, небеса которого рдели, как адское пламя, но всё-таки, рая…
Не следует забывать, что пистолет есть фрейдистический символ центральной праотцовской конечности.
— Я чувствую, что вы ни за что не ответите мне; это логично, — ибо и безответственность вырабатывает в конце концов свою логику. Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен, — но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего. По крайней мере, проверю на опыте всю несостоятельность данного мира.
Стремлюсь овладеть самыми лучшими словами во всех доступных лексических, ассоциативных и ритмических звучаниях, чтобы выразить, как можно точнее, то, что стремишься выразить.
Только близорукость смиряется с расплывчатыми обобщениями невежества. В высоком искусстве и чистой науке деталь – это все.
Мои величайшие шедевры прозы двадцатого столетия таковы, в приводимой последовательности: «Улисс» Джойса, «Превращение» Кафки, «Петербург» Белого и первая часть сказки Пруста «В поисках утраченного времени».
С тех самых пор как монументальные посредственности вроде Голсуорси, Драйзера, персонажа по имени Тагор, еще одного по имени Максим Горький и третьего по имени Ромен Роллан стали восприниматься как гении, меня изумляют и смешат сфабрикованные понятия о так называемых «великих книгах». То, что, к примеру, глупая «Смерть в Венеции» Манна, или мелодраматичный и отвратительно написанный «Живаго» Пастернака, или кукурузные хроники Фолкнера могут называться «шедеврами» или, по определению журналистов, «великими книгами», представляется мне абсурдным заблуждением, словно вы наблюдаете, как загипнотизированный человек занимается любовью со стулом.
«Улисс», конечно, божественное произведение искусства и будет жить вечно вопреки академическим ничтожествам, стремящимся обратить его в коллекцию символов или греческих мифов.
Нельзя строить жизнь на песке несчастья. Это грех против жизни.
Французский романтизм дал нам поэзию любви, немецкий – поэзию дружбы
Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить — об оттенке облака, о пеньи мысли и о том, что, когда я сегодня вышел на работу и посмотрел в лицо высокому подсолнуху, он улыбнулся мне всеми своими семечками.
Из магазина говорящих и играющих аппаратов раздалась зябкая музыка, и кто-то прикрыл дверь, чтобы музыка не простудилась.
В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые, холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны, — всю эту потом и пылью пропитанную дрянь, — и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким. Отчасти эта вялость происходила от безделья.
Есть множество людей, которые, не обладая специальными знаниями, умеют, однако, и воскресить электричество после таинственного события, называемого «коротким замыканием», и починить ножичком механизм остановившихся часов, и нажарить, если нужно, котлет.
Один умный латыш, которого я знавал в 19 году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, признак того, что я кончу в сумасшедшем доме.
И вдруг что-то случилось. Солнце с размаху ударило по длинным струям дождя, скосило их – струи стали сразу тонкими, золотыми, беззвучными. Снова и снова размахивалось солнце, — и разбитый дождь уже летал отдельными огненными каплями, лиловой синевой отливал асфальт…
Она впилась, эта тоска, в один небольшой уголок земли, и оторвать ее можно только с жизнью.
….я находил в природе то сложное и «бесполезное», которого я позже искал в другом восхитительном обмане — в искусстве.
Художник, по моему мнению, должен руководиться только чувством прекрасного — оно никогда не обманывает.
Нет, кажется, больше не могу. Сердце, голова – словом, все плохо. Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита, Лолита. Повторяй это имя, наборщик, пока не кончится страница.
Я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь!
Смерть, — говорил он [Горн] еще, — представляется мне просто дурной привычкой, которую природа теперь уже не может в себе искоренить.
Я знаю, что смерть сама по себе никак не связана с внежизненной областью, ибо дверь есть лишь выход из дома, а не часть его окрестности, какой является дерево или холм. Выйти как-нибудь нужно, но я отказываюсь видеть в двери больше, чем дыру, да то, что сделали столяр и плотник.
Если параллельные линии не встречаются, то не потому, что встретиться они не могут, а потому, что у них есть другие заботы.
Другой момент, который, может быть, помогает мне, – я подвержен приступам веры в сбивающие с толку предрассудки: число, сон, случайное совпадение могут подействовать на меня, стать для меня чем-то навязчивым – не в плане абсурдных страхов, а как пример непонятной (в целом довольно стесняющей) научной загадки, которую невозможно сформулировать, а тем более решить.
Как установлено научным путем, мимикрия животных – защитные приспособления и формы – преследуют полезную цель, тем не менее их изящество и утонченность свидетельствуют о том, что их функции много шире, чем грубая цель примитивного выживания.
У моих родителей было много знакомых художников, танцоров и музыкантов. В нашем доме в первый раз пел молодой Шаляпин, а я танцевал фокстрот с Павловой в Лондоне полвека назад.
Я предпочитаю экспериментальное десятилетие, которое совпало с моим детством, – люблю Сомова, Бенуа (знаете, он дядя Питера Устинова?), Врубеля, Добужинского и т. д. Малевич и Кандинский ничего не значат для меня, а живопись Шагала считаю невыносимо примитивной и гротескной.
Беда в том, что ни одно, даже самое разумное и гуманное, правительство не способно произвести на свет великих художников, хотя плохое правительство, конечно, может изводить, изничтожать и подавлять их.
Я никогда не состоял ни в одной политической партии, но всегда испытывал омерзение и презрение к диктатуре и полицейским государствам, так же как и к любой форме насилия.
Настоящий писатель должен внимательно изучать творчество соперников, включая Всевышнего. Он должен обладать врожденной способностью не только вновь перемешивать части данного мира, но и вновь создавать его. Чтобы делать это как следует и не изобретать велосипед, художник должен знать этот мир. Воображение без знания приведет лишь на задворки примитивного искусства, к детским каракулям на заборе или к выкрикам узколобых ораторов на базарной площади. Искусство никогда не бывает простым.
В конце концов, почему вообще я написал свои книги? Во имя удовольствия, во имя сложности. Я не пишу с социальным умыслом и не преподаю нравственного урока, не эксплуатирую общие идеи – просто я люблю сочинять загадки с изящными решениями.
Я не думаю ни на одном языке. Я думаю образами. Я не верю, что люди думают на языках. Думая, они не шевелят губами. Только неграмотный человек определенного типа шевелит губами, читая или размышляя. Нет, я думаю образами, и лишь иногда русская или английская фраза вспенится мозговой волной, но вот, пожалуй, и все.
Я стараюсь держать персонажей за пределами своей личности.
Я ощущаю себя русским и думаю, что мои русскоязычные произведения, романы, стихи и рассказы, написанные мной за эти годы, являются своеобразной данью России.
Вообще же он был пессимист и, как всякий пессимист, человек до смешного не наблюдательный.
…он пробовал читать, но то, что было в книге, показалось ему таким чужим и неуместным, что он бросил ее посредине придаточного предложения. На него нашло то, что он называл «рассеянье воли». Он сидел не шевелясь перед столом и не мог решить, что ему делать: переменить ли положение тела, встать ли, чтобы пойти вымыть руки, отворить ли окно, за которым пасмурный день уже переходил в сумерки… Это было мучительное и страшное состояние, несколько похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть, словно навсегда слипшиеся, веки. Так и Ганин чувствовал, что мутные сумерки, которыми постепенно наливалась комната, заполняют его всего, претворяют самую кровь в туман, что нет у него сил пресечь сумеречное наважденье. А сил не было потому, что не было у него определенного желанья, и мученье было именно в том, что он тщетно искал желанья. Он не мог принудить себя протянуть руку к лампе, чтобы включить свет. Ему казался немыслимым чудом этот простой переход от намеренья к его осуществленью.
Поэтому Цинциннат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, — как сделал его призрак (призрак, сопровождающий каждого из нас — и тебя, и меня, и вот его, — делающий то, что в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя…).
Пароль в ту ночь был: молчание, — и солдат у ворот отозвался молчанием на молчание Цинцинната, пропуская его, и у всех прочих ворот было то же.
Иногда на шоссе у пирамидки щебня, над которым пустынно и нежно гудел телеграфный столб, облупившийся сизыми струпьями, он останавливался и, опираясь на велосипед, глядел через поля на одну из тех лесных опушек, что бывают только в России, далекую, зубчатую, черную, и над ней золотой запад был пересечен одним только лиловатым облаком, из-под которого огненным веером расходились лучи. И глядя на небо, и слушая, как далеко-далеко на селе почти мечтательно мычит корова, он старался понять, что все это значит— вот это небо, и поля, и гудящий столб; казалось, что вот-вот сейчас он поймет,— но вдруг начинала кружиться голова, и светлое томленье становилось нестерпимым.
Тайна, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота, поражающая пуще самой сложной магии.
У Леонарда Блоренджа, заведовавшего кафедрой французской литературы и языка, были две занятные особенности: он не любил литературы и не знал по-французски.
Конец июля на севере России уже пахнет слегка осенью. Мелкий желтый лист, нет-нет, да и слетит с березы; в просторах скошенных полей уже пусто и светло по-осеннему. Вдоль опушки, где еще лоснится на ветру островок высокой травы, избежавшей косарей, на бледно-лиловых подушечках скабиоз спят отяжелевшие шмели.
…однажды увиденное, не может быть возвращено в хаос никогда.
Я всегда утверждаю, что природу изумляет то, что ей приходится подглядеть в окно.
Во-первых, эпиграф, но не к этой главе, а так, вообще: литература — это любовь к людям. Теперь продолжим.
Рассеян был не Пнин, а мир, и Пнину приходилось наводить в нем порядок.
Страшно,когда явь вдруг оказывается сном,но гораздо страшнее,когда то,что принимал за сон,легкий и безответственный,начинает вдруг остывать явью.
…в гамме мировых лет есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых, — точка искусства.
– Вы, верно, слышали, – сказал Цинциннат, – послезавтра – мое истребление. Больше не буду брать книг.
«Если бы мне сказали, что за это меня завтра казнят, — подумал он, — я все равно бы на нее смотрел».
Была она собой не очень хороша, чего-то недоставало ее мелким, правильным чертам. Как будто последний, решительный толчок, который бы сделал ее прекрасной, оставив те же черты, но придав им неизъяснимую значительность, не был сделан. Но ей было двадцать пять лет, по моде остриженные волосы лежали прелестно, и был у нее один поворот головы, в котором сказывался намек на возможную гармонию, обещание подлинной красоты, в последний миг не сдержанное.
Пусть это покажется странным, но книгу вообще нельзя читать – ее можно только перечитывать. Хороший читатель, читатель отборный, соучаствующий и созидающий, — это перечитыватель. Сейчас объясню, почему. Когда мы в первый раз читаем книгу, трудоемкий процесс перемещения взгляда слева направо, строчка за строчкой, страница за страницей, та сложная физическая работа, которую мы проделываем, сам пространственно-временной процесс осмысления книги мешает эстетическому ее восприятию. Когда мы смотрим на картину, нам не приходится особым образом перемещать взгляд, даже если в ней тоже есть глубина и развитие. При первом контакте с произведением живописи время вообще не играет роли. А на знакомство с книгой необходимо потратить время. У нас нет физического органа (такого, каким в случае с живописью является глаз), который мог бы разом вобрать в себя целое, а затем заниматься подробностями. Но при втором, третьем, четвертом чтении мы в каком-то смысле общаемся с книгой так же, как с картиной. Не будем, однако, путать глаз, этот чудовищный плод эволюции, с разумом, еще более чудовищным ее достижением. Любая книга – будь то художественное произведение или научный труд (граница между ними не столь четкая, как принято думать) – обращена прежде всего к уму. Ум, мозг, вершина трепетного позвоночника, — вот тот единственный инструмент, с которым нужно браться за книгу.
Чему в школе научишься? Ничему. Если человек умный, на что ему учение? Главное – природа. А политика, например, меня не интересует. И вообще, мир – это, знаете, дерьмо.
Спустя некоторое время тюремщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Цинциннат согласился. Они закружились. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе, от него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы (не те годы, увы, опух, одышка). Их вынесло в коридор. Цинциннат был гораздо меньше своего кавалера. Цинциннат был легок как лист. Ветер вальса пушил светлые концы его длинных, но жидких усов, а большие, прозрачные глаза косили, как у всех пугливых танцоров. Да, он был очень мал для взрослого мужчины. Марфинька говаривала, что его башмаки ей жмут. У сгиба коридора стоял другой стражник, без имени, под ружьем, в песьей маске с марлевой пастью. Описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока.
Россия заселена подсолнухами. Это самый большой, самый мордастый и самый глупый цветок.
Следует отличать «сентиментальность» от «чувствительности». Сентиментальный человек может быть в частной жизни чрезвычайно жестоким. Тонко чувствующий человек никогда не бывает жестоким. Сентиментальный Руссо, способный всхлипывать над прогрессивной идеей, рассовал своих многочисленных детей по разным приютам и работным домам и впоследствии никогда не принимал участия в их судьбе. Сентиментальная старая дева может кормить своего попугая лакомствами и отравить племянницу. Сентиментальный политик никогда не пропустит Дня матери и безжалостно расправится со своим соперником. Сталин любил детей. У Ленина исторгала рыдания опера, особенно «Травиата». Целый век писатели воспевали простую жизнь бедняков. Так вот, когда мы говорим о сентименталистах — о Ричардсоне, Руссо, Достоевском, — мы имеем в виду неоправданное раздувание самых обычных чувств, автоматически вызывающее в читателе естественное сострадание. Достоевский так и не смог избавиться от влияния сентиментальных романов и западных детективов. Именно к сентиментализму восходит конфликт, который он так любил: поставить героя в унизительное положение и извлечь из него максимум сострадания.
Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочих пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита.
Литература — это выдумка. Вымысел есть вымысел. Назвать рассказ правдивым значит оскорбить и искусство, и правду. Всякий большой писатель — большой обманщик, но такова же и эта архимошенница — Природа. Природа обманывает всегда. От простеньких уловок в интересах размножения до умопомрачительно изощренной иллюзорности в защитной окраске бабочек и птиц — Природа использует изумительную систему фокусов и соблазнов. Писатель только следует ее примеру.
«Долорес Гейз, нэ муонтрэ па вуа жямб» (это говорит ее мать, думающая, что знает по-французски). Она писала стихи. Была поэтически суеверна. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы. Моя фантазия подвергалась Прустовским пыткам на прокрустовом ложе.
Две мысли, точно связанные, кружились в медленном танце, в механическом менуэте с поклонами и приседаниями: одна «нам-нужно-так-много-сказать-друг-другу», другая «нам-решительно-не-о-чем-говорить». Впрочем, эти вещи способны переменяться во мгновение ока.
Лучше была арифметика: была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число, в решительный миг, после многих приключений, без остатка делится на девятнадцать.
«Очень была рада познакомиться», – сказала она и промеж слов успела подумать, что уже думала не раз: «Ну, и балда, ну и типчик!»
Удивительно, как трудно что-нибудь спрятать — особенно когда жена только и делает, что переставляет вещи.
И за все это, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста… Мешок рубинов, ведро крови — все что угодно…
Ближайшее подобие зарождения разума (и в человеческом роде и в особи) мне кажется можно найти в том дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое. Для того, чтобы объяснить начальное цветение человеческого рассудка, мне кажется, следует предположить паузу в эволюции природы, животворную минуту лени и неги. Борьба за существование — какой вздор! Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану. Мы с тобой часто со смехом отмечали маньякальный блеск в глазу у хозяйственной дамы, когда в пищевых и распределительных замыслах она этим стеклянистым взглядом блуждает по моргу мясной. Пролетарии, разъединяйтесь! Старые книги ошибаются, Мир был создан в день отдыха.
Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет: бубенчики их — лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой — за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег — настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев.
«Какая игра, какая игра, — сказал скрипач, бережно закрывая ящик. – Комбинации как мелодии. Я понимаете ли, просто слышу ходы (…) Игра богов. Бесконечные возможности».
Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат..
– Будет, – шепнул с улыбкой директор, – я тозе хоцу, – и он прильнул опять.
– А что такое, по-вашему, «гений»? – Ну, способность видеть вещи, которых не видят другие. Или, вернее, невидимые связи вещей.
Читая мораль, писатель оказывается в опасной близости к бульварной муре…
Таких слов, таких понятий и образов, какие создала Россия, не было в других странах, – и часто он доходил до косноязычия, до нервного смеха, пытаясь объяснить иноземцу, что такое «оскомина» или «пошлость».
Знаешь ли ты, что ты — моё счастие? Ты вся создана из маленьких стрельчатых движений — я люблю каждое из них. Думала ли ты когда-нибудь о том, как странно, как легко сошлись нашей жизни? Это, вероятно, у Бога, скучающего в раю вышел пасьянс, который выходит не часто. Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость, будто у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли. Знаешь, я никому так не доверял, как тебе. Во всем сказочном есть черта доверчивости.
Есть вещи, от которых никогда не следует отказываться.
Не было, например, такой силы, которая могла бы заставить его перестать употреблять несовершенный вид прошедшего времени вместо совершенного, что придавало всякому его вчерашнему случайному действию какое-то идиотское постоянство.
…зато в натуре у нее есть свойство – очень, впрочем, обыкновенное у женщин – невольно требовать поклонения и невольно проникаться чувством смутной неприязни к мужчине, равнодушному к женским чарам, даже если этот мужчина простосердечностью своей, уродливой наружностью и любовными вкусами смешон и противен ей.
И вдруг я понял, что все эти звуки принадлежат к одному роду и что никаких других звуков, кроме них, не поднимается с улиц прозрачного городка… Мелодия, которую я слышал, составлялась из звуков играющих детей, только из них… Стоя на высоком скате, я не мог наслушаться этой музыкальной вибрации, этих вспышек отдельных возгласов на фоне ровного рокотания, и тогда-то мне стало ясно, что пронзительно-безнадежный ужас состоит не в том, что Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса ее нет в этом хоре.
В звуках готовившегося на кухне обеда был неприятный упрек, а перспектива умывания и бритья казалась столь же близкой и невозможной, как перспектива у мастеров раннего средневековья.
Она сказала: «Предлагаю похерить игру в поцелуи и пойти жрать».
До отъезда в живописные страны надобно было найти для Лужина занимательную игру, а уж потом обратиться к бальзаму путешествий, решительному средству, которым лечатся от хандры романтические миллионеры.
Франц возмужал от любви. Эта любовь была чем-то вроде диплома, которым можно было гордиться.
…самое простое объяснение не приходило ему в голову, как иногда, при решении задачи, ключом к ней оказывается ход, который представляется запретным, невозможным, естественным образом выпадающим из ряда возможных ходов.
Упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног…
Память человека близорука.















